Подписаться на альманах
Альманах выходит ежеквартально, суммарно 4 выпуска в год. В подписку входит получение электронной и печатной версии альманаха, а также издаваемых ЛИЭКС книг. Стоимость подписки на 2026 г. составляет 96 000 ₽, НДС не облагается.
Если вы хотите оформить подписку как физ. лицо, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Если вы хотите оформить подписку как физ. лицо, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
I Лабораторные дискуссии
Глобальные вызовы разведки и политики: история и современность
I Лабораторные дискуссии «Глобальные вызовы разведки и политики: история и современность» посвящены ключевому вопросу — как аналитическое знание влияет на принятие решений высшим политическим руководством. В центре внимания — механизмы стратегической коммуникации между разведывательными структурами и властью, фильтрация информации, межведомственная конкуренция и риски политизации анализа. На примерах из истории и современности участникам предлагается обсудить, почему достоверные данные нередко остаются невостребованными и как возникает искажение восприятия угроз.
Цель встречи заключалась в выработке практического понимания того, как повысить качество аналитической поддержки, что особенно актуально в условиях глобальной нестабильности.
Олег Алпеев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема: «Область недостоверного»: русская военная разведка и принятие военно-политических решений в России перед Первой мировой войной
Рубеж XIX — начала XX века стал периодом беспрецедентного алармизма и недоверия между Великими державами. Это состояние было связано не только с эмоциями, но и с результатами аналитической работы военных ведомств по оценке угроз и прогнозированию развития военно-политической обстановки. В совокупности такая практика обеспечения военной безопасности подготовила почву для Первой мировой войны: механизмы урегулирования противоречий оказались бессильными, а кризисы (Боснийский 1908−1909 гг., Мобилизационный 1912–1913 гг., Июльский 1914 г.) выявили слабость «антикризисного менеджмента» военно-политических руководств. Возник парадокс: деятельность держав по обеспечению безопасности от внешних угроз приводила к тому, что само «обеспечение безопасности» становилось угрозой безопасности. В этом контексте война в современной историографии часто понимается как трагедия, а не преступление.
На этом фоне доклад рассматривает роль военной разведки Российской империи как одного из факторов, влияющих на принятие решений военно-политическим руководством. При том что организация и деятельность русской военной разведки хорошо изучены, влияние её аналитической работы по оценке приготовлений вероятных противников на военно-стратегические решения редко выступало самостоятельным предметом исследования (как исключение отмечается работа Б. Меннинга о роли разведки в Июльском кризисе 1914 г.).
Цель встречи заключалась в выработке практического понимания того, как повысить качество аналитической поддержки, что особенно актуально в условиях глобальной нестабильности.
Олег Алпеев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Тема: «Область недостоверного»: русская военная разведка и принятие военно-политических решений в России перед Первой мировой войной
Рубеж XIX — начала XX века стал периодом беспрецедентного алармизма и недоверия между Великими державами. Это состояние было связано не только с эмоциями, но и с результатами аналитической работы военных ведомств по оценке угроз и прогнозированию развития военно-политической обстановки. В совокупности такая практика обеспечения военной безопасности подготовила почву для Первой мировой войны: механизмы урегулирования противоречий оказались бессильными, а кризисы (Боснийский 1908−1909 гг., Мобилизационный 1912–1913 гг., Июльский 1914 г.) выявили слабость «антикризисного менеджмента» военно-политических руководств. Возник парадокс: деятельность держав по обеспечению безопасности от внешних угроз приводила к тому, что само «обеспечение безопасности» становилось угрозой безопасности. В этом контексте война в современной историографии часто понимается как трагедия, а не преступление.
На этом фоне доклад рассматривает роль военной разведки Российской империи как одного из факторов, влияющих на принятие решений военно-политическим руководством. При том что организация и деятельность русской военной разведки хорошо изучены, влияние её аналитической работы по оценке приготовлений вероятных противников на военно-стратегические решения редко выступало самостоятельным предметом исследования (как исключение отмечается работа Б. Меннинга о роли разведки в Июльском кризисе 1914 г.).
Организация разведки и путь информации к верховной власти
Система сбора и анализа данных о потенциальных противниках окончательно оформилась в России в конце XIX — начале XX века. Центральные структуры менялись (Военно-учёный комитет Главного штаба до 1903 г.; затем профильные отделения Главного штаба; после 1905 г. — специализированные добывающие подразделения ГУГШ, преобразованные в 1910 г. в Особое делопроизводство). Аналитические функции лежали на статистических страноведческих делопроизводствах Управления (Отдела) генерал-квартирмейстера; разведработу вели также окружные штабы и военные агенты за рубежом.
Система сбора и анализа данных о потенциальных противниках окончательно оформилась в России в конце XIX — начале XX века. Центральные структуры менялись (Военно-учёный комитет Главного штаба до 1903 г.; затем профильные отделения Главного штаба; после 1905 г. — специализированные добывающие подразделения ГУГШ, преобразованные в 1910 г. в Особое делопроизводство). Аналитические функции лежали на статистических страноведческих делопроизводствах Управления (Отдела) генерал-квартирмейстера; разведработу вели также окружные штабы и военные агенты за рубежом.
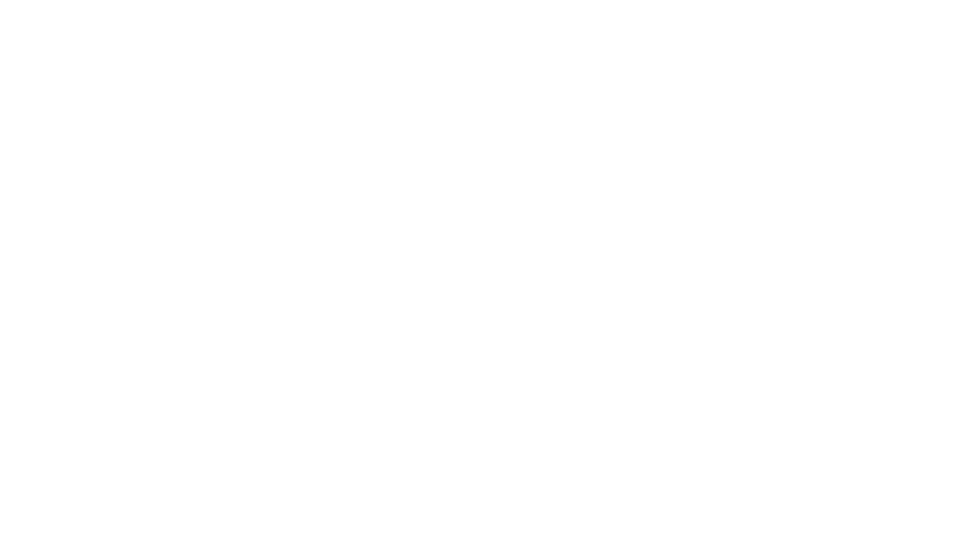
При этом результаты аналитической деятельности редко докладывались непосредственно императору: руководитель разведки имел право прямого доклада только по линии Генштаба, а начальник Генштаба (кроме периода 1905−1909 гг.) был лишён права личного доклада верховной власти. Тем не менее в наиболее важных случаях — прежде всего в кризисные периоды — императору представлялись сводки или аналитические записки; при необходимости аналогичные материалы могли направляться министру иностранных дел и председателю Совета министров.
Три направления влияния разведки на решения
Результаты работы русской военной разведки существенно влияли на принятие решений в трёх ситуациях:
Результаты работы русской военной разведки существенно влияли на принятие решений в трёх ситуациях:
- при ведении дипломатии и переговоров;
- при работе верховной власти и ведомств в условиях международных кризисов;
- в процессе военно-стратегического планирования.
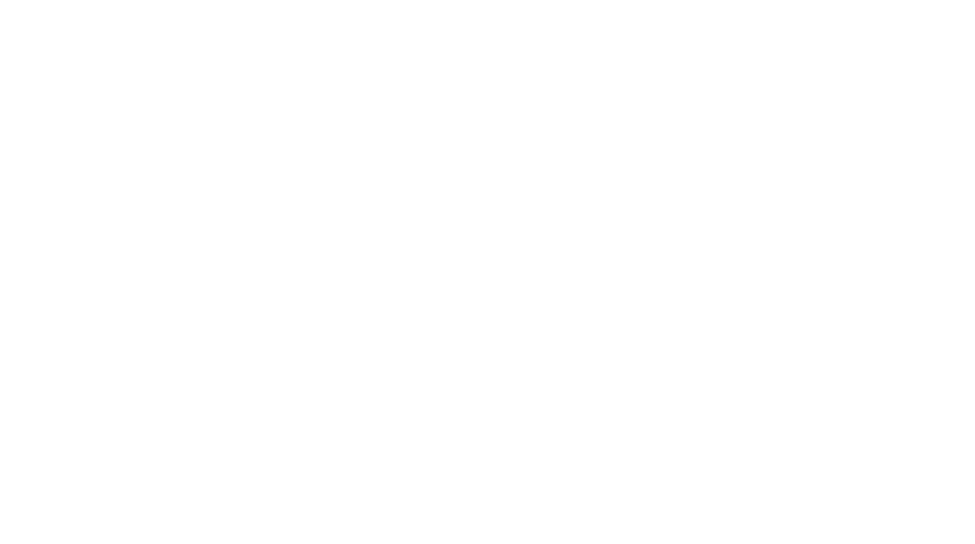
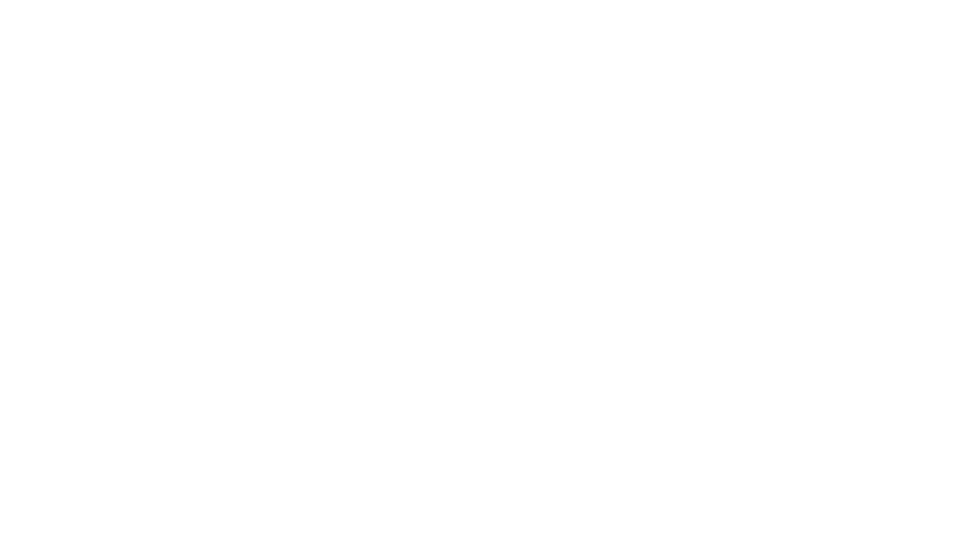
Военные агенты (атташе) на маневрах
Дипломатические кейсы: 1902 и 1907 годы
Дипломатические кейсы: 1902 и 1907 годы
Первым показательным примером стало заключение русско-болгарской военной конвенции 1902 г. Поводом к сближению России и Болгарии стало получение русской военной разведкой (через военного агента в Вене полковника В.Х. Роопа) документов о предварительных договорённостях генштабов Австро-Венгрии и Румынии о совместных действиях против России и Болгарии/Сербии, а также материалов с изложением планов и боевого расписания. На основании этих сведений в Главном штабе был подготовлен доклад императору, который оценил значимость добытых документов. Далее, с целью нейтрализации угрозы со стороны австро-румынского союза, было принято решение предложить Болгарии аналогичное соглашение; в мае 1902 г. конвенция была подписана.
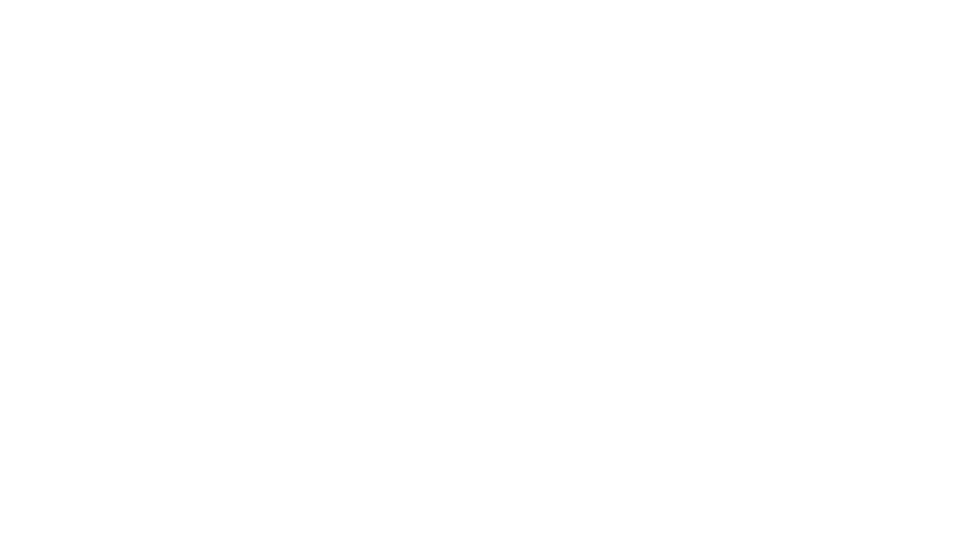
При этом доклад фиксирует, что России не удалось в полной мере воспользоваться результатами этого дипломатического успеха: ошибочная расстановка приоритетов и сложность балканского узла не позволили добиться устойчивых результатов, и в годы Первой мировой войны Болгария воевала на стороне противников Российской империи.
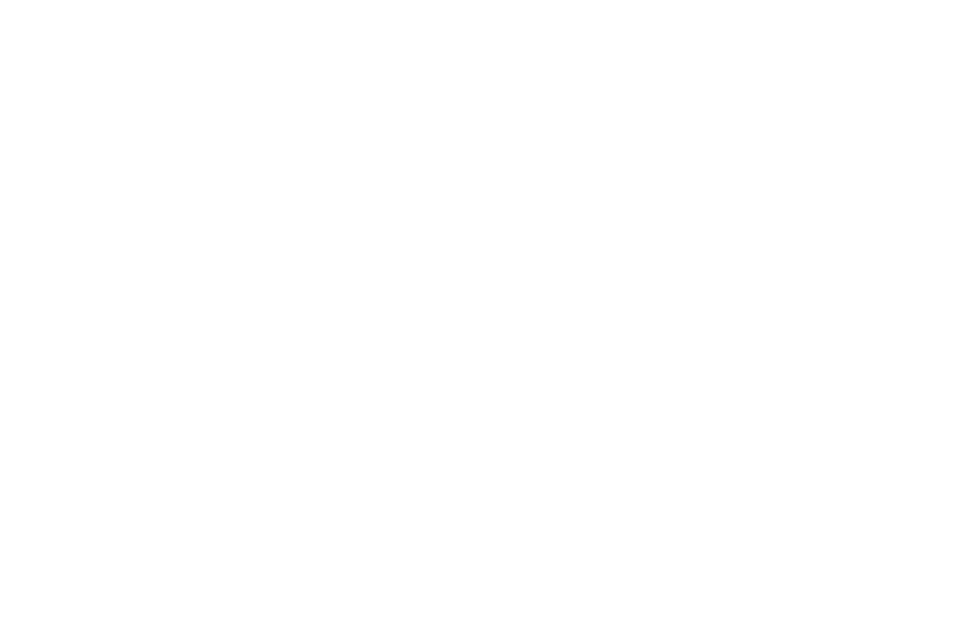
Будущий император Николай II (сидит в центре), Индия, 1890 г.
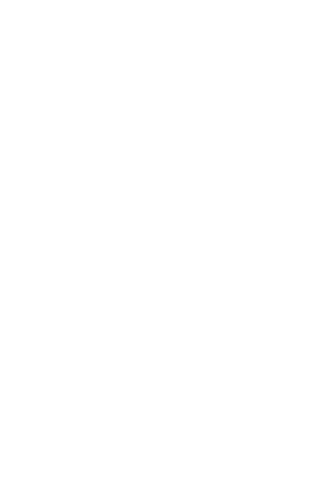
Британские документы, добытые Н.С. Ермоловым
Вторым кейсом стало разведывательное обеспечение подготовки англо-русского соглашения 1907 г. Во второй половине XIX века Великобритания была основным геополитическим противником России; планирование «похода в Индию» систематически велось с 1885 г. Однако после русско-японской войны стратегические ориентиры меняются. С 1904 г. русская разведка получает сведения о реформе индо-британской армии (донесения военного агента в Лондоне Н. С. Ермолова), причём значительная часть выводов была сделана на основе тщательного анализа открытых источников (официальные издания, бюджетные документы, пресса). Сравнение имевшихся данных с британскими планирующими документами показывает, что часть сведений была разрозненной и недостоверной, но общий вывод для русского руководства был критичен: наступательная операция против Британской Индии представлялась невозможной, а значит Россия лишалась ключевого инструмента вооружённого давления на Великобританию. Эта переоценка стала одним из факторов, подготовивших сближение сторон. Когда в 1906 г. Британия инициировала переговоры, представители Военного министерства и ГУГШ, опираясь на разведоценку, поддержали нормализацию отношений; соответствующие позиции излагались в записках Ермолова и полковника Л. М. Болховитинова. Итогом стало соглашение 1907 г., включая переход Афганистана в сферу влияния Великобритании как буферного государства. Доклад подчёркивает долгосрочное последствие этого решения: завершение формирования двух блоков в Европе — Антанты и Тройственного союза — что приблизило мировую войну.
Кризисные кейсы: 1912/13 и 1914 годы — «медвежья услуга» подлинного знания
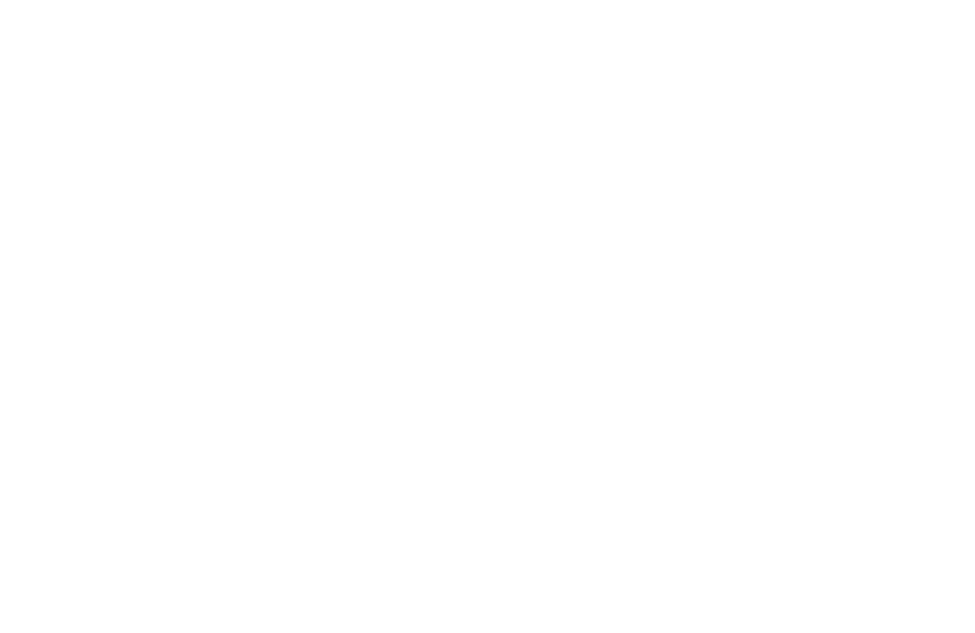
Особое значение имеет влияние разведданных на решения в кризисах. В австро-венгерском направлении русская разведка располагала подлинными планирующими документами высшего уровня допуска, включая планы развертывания армии на случай войны с Россией («Kriegsfall R») 1908−1912 гг. Однако, как показано в докладе, обладание этим «сокровенным» знанием парадоксально сыграло отрицательную роль.
Во время Первой Балканской войны 1912−1913 гг. возник «Мобилизационный кризис 1912/13 г.». На фоне конфликта Австро-Венгрии и Сербии стороны оказались на грани войны; в декабре 1912 г. страх перед предполагаемыми приготовлениями соседа усиливался. Русская разведка фиксировала перевозки отдельных частей к границе; в ноябре 1912 г. военный агент в Австро-Венгрии М. И. Занкевич впервые предположил скрытую мобилизацию и сосредоточение всей армии. Ошибка возникла из сопоставления сообщений о перевозках с имеющимися планами развертывания: Генштаб не смог верно интерпретировать хаотический характер перевозок и пришёл к паническому заключению, что Россия «пропустила» скрытую мобилизацию.
Во время Первой Балканской войны 1912−1913 гг. возник «Мобилизационный кризис 1912/13 г.». На фоне конфликта Австро-Венгрии и Сербии стороны оказались на грани войны; в декабре 1912 г. страх перед предполагаемыми приготовлениями соседа усиливался. Русская разведка фиксировала перевозки отдельных частей к границе; в ноябре 1912 г. военный агент в Австро-Венгрии М. И. Занкевич впервые предположил скрытую мобилизацию и сосредоточение всей армии. Ошибка возникла из сопоставления сообщений о перевозках с имеющимися планами развертывания: Генштаб не смог верно интерпретировать хаотический характер перевозок и пришёл к паническому заключению, что Россия «пропустила» скрытую мобилизацию.
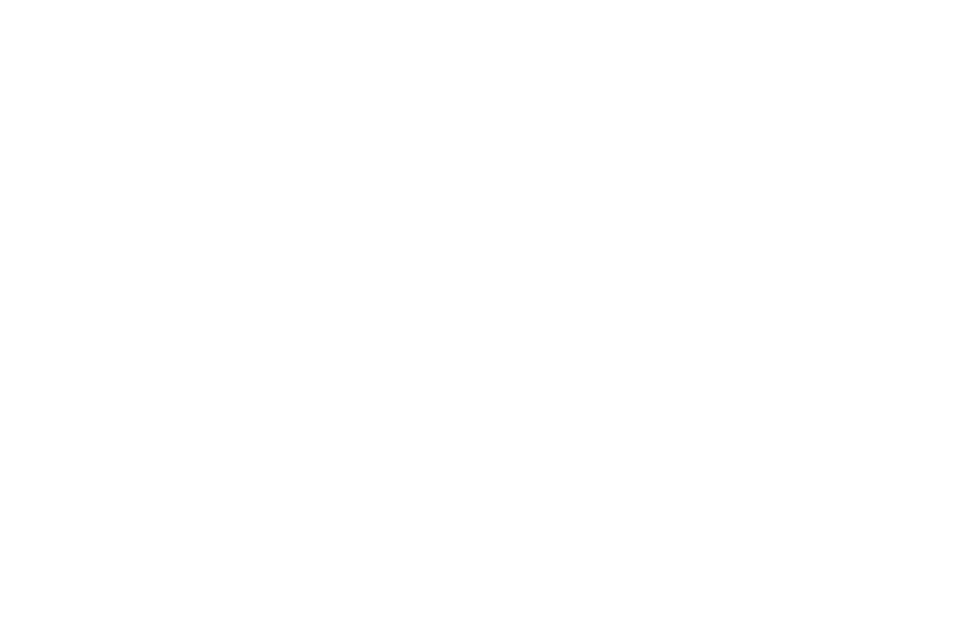
Эти данные легли в основу обсуждений на уровне верховной власти и ключевых министров; для совещаний готовились справки Австрийского делопроизводства ГУГШ под руководством полковника А. А. Самойло. Согласно оценкам, Австро-Венгрия якобы была готова к войне с Россией, тогда как Россия оставалась на мирных штатах. Военное ведомство предложило меры, фактически равные скрытой частичной мобилизации (учебные сборы). Однако решения были сдержаны сопротивлением председателя Совета министров В. Н. Коковцова и министра иностранных дел С. Д. Сазонова; в итоге ограничились удержанием подлежащих увольнению нижних чинов и разработали новый план развертывания в удалении от границы, чтобы выиграть время. Эскалации удалось избежать из-за разрядки на Балканах.
Тем не менее главный отложенный эффект заключался в другом: опыт 1912/13 г. породил страх «снова пропустить» скрытую мобилизацию противника. В Июльском кризисе 1914 г. после объявления частичной мобилизации в Австро-Венгрии русская разведка в течение нескольких дней ежедневно информировала Николая II и С. Д. Сазонова о военных приготовлениях. Руководство России пережило эффект «дежа-вю» и вновь увидело в действиях Вены скрытую общую мобилизацию против России. Это, а также нежелание вновь оказаться под угрозой превентивных действий, стало основой последовательных и взаимоисключающих решений об общей и частичной мобилизации. Доклад цитирует вывод Б. Меннинга о том, что опыт конца 1912 г. усилил подозрения и обусловил чрезмерную нервозность русской реакции; при этом подчёркивается решающая роль разведки в данной динамике. Принятые мобилизационные решения стали одним из шагов к началу мировой войны, вызвав ответные меры Германии и объявление войны России, хотя доклад отмечает, что к тому моменту войны уже было трудно избежать.
Тем не менее главный отложенный эффект заключался в другом: опыт 1912/13 г. породил страх «снова пропустить» скрытую мобилизацию противника. В Июльском кризисе 1914 г. после объявления частичной мобилизации в Австро-Венгрии русская разведка в течение нескольких дней ежедневно информировала Николая II и С. Д. Сазонова о военных приготовлениях. Руководство России пережило эффект «дежа-вю» и вновь увидело в действиях Вены скрытую общую мобилизацию против России. Это, а также нежелание вновь оказаться под угрозой превентивных действий, стало основой последовательных и взаимоисключающих решений об общей и частичной мобилизации. Доклад цитирует вывод Б. Меннинга о том, что опыт конца 1912 г. усилил подозрения и обусловил чрезмерную нервозность русской реакции; при этом подчёркивается решающая роль разведки в данной динамике. Принятые мобилизационные решения стали одним из шагов к началу мировой войны, вызвав ответные меры Германии и объявление войны России, хотя доклад отмечает, что к тому моменту войны уже было трудно избежать.
Стратегическое планирование против Германии: дезинформация и корректная реконструкция — но не гарантия успеха
В сфере стратегического планирования показателен германский сюжет. В отличие от австро-венгерского направления Россия не обладала планами развертывания германской армии, что создавало риск ошибок. Так, план войны 1910 г. оказался под влиянием откровенно фальшивого документа, подброшенного германской контрразведкой русскому военному агенту в Берлине в 1908 г.; из-за этого оценки мобилизационных возможностей Германии были завышены, а план 1910 г. — осторожным и оборонительным.
В сфере стратегического планирования показателен германский сюжет. В отличие от австро-венгерского направления Россия не обладала планами развертывания германской армии, что создавало риск ошибок. Так, план войны 1910 г. оказался под влиянием откровенно фальшивого документа, подброшенного германской контрразведкой русскому военному агенту в Берлине в 1908 г.; из-за этого оценки мобилизационных возможностей Германии были завышены, а план 1910 г. — осторожным и оборонительным.
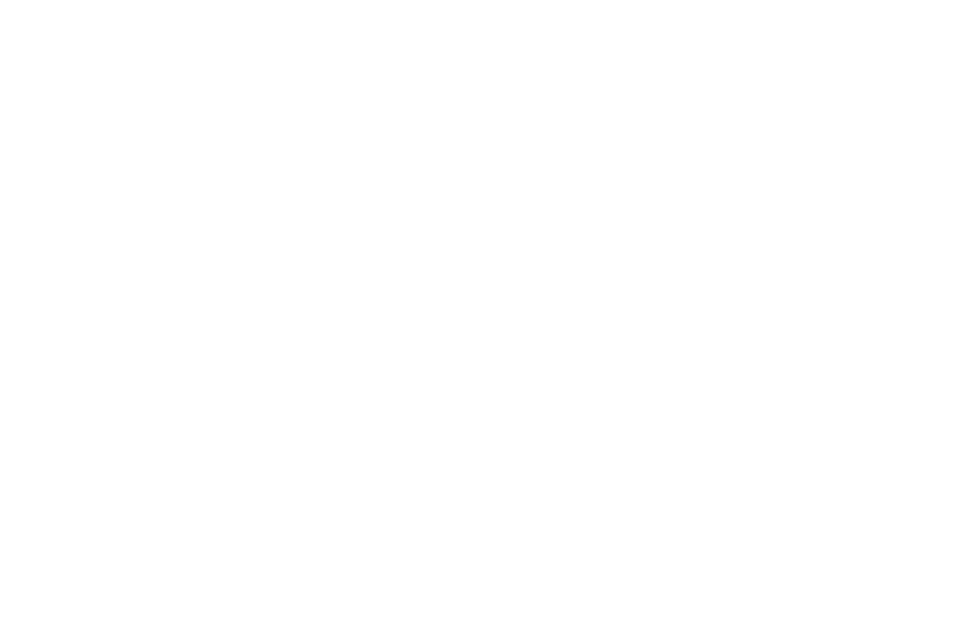
Перед Первой мировой войной ситуация изменилась: в 1911—1912 гг. под влиянием новых разведывательных выводов было принято важное решение об изменении направленности планирования. Благодаря материалам нелегальной разведки (в т.ч. агент «Lupus»), а также документам, предоставленным союзной Францией, и закрытым справочникам и материалам оперативной подготовки, аналитикам удалось достоверно установить, что главный удар Германия нанесёт по Франции; определить объёмы мобилизационного развертывания и группировку против России; сделать вывод, что против России оставят минимальные силы, неспособные к наступлению. На этой основе на московском совещании 1912 г. был разработан план войны, введённый в действие в 1914 г.: он предусматривал наступление одновременно против Германии и Австро-Венгрии, что доклад характеризует как решительное, если не авантюрное решение и как шаг, демонстрирующий готовность вступить в вооружённую борьбу. Начало войны подтвердило точность прогнозов о германской группировке, но показало несостоятельность решений, принятых на базе этих прогнозов: распыление сил привело к провалу вторжения в Восточную Пруссию и нерешительности итогов на австро-венгерском направлении; причины поражения включали неудовлетворительное руководство войсками.
Итоговые выводы
Исследование показывает, что результаты работы русской военной разведки существенно влияли на решения с долгосрочными последствиями. Аналогично разведка других держав воздействовала на судьбоносные решения (аннексия Боснии и Герцеговины; германская поддержка Австро-Венгрии в 1914 г. на фоне оценок будущего усиления русской армии). Среди выводов разведки были верные и ошибочные, но в совокупности они формировали военно-стратегическую и дипломатическую конфигурацию Европы, приведшую к Первой мировой войне.
Исследование показывает, что результаты работы русской военной разведки существенно влияли на решения с долгосрочными последствиями. Аналогично разведка других держав воздействовала на судьбоносные решения (аннексия Боснии и Герцеговины; германская поддержка Австро-Венгрии в 1914 г. на фоне оценок будущего усиления русской армии). Среди выводов разведки были верные и ошибочные, но в совокупности они формировали военно-стратегическую и дипломатическую конфигурацию Европы, приведшую к Первой мировой войне.
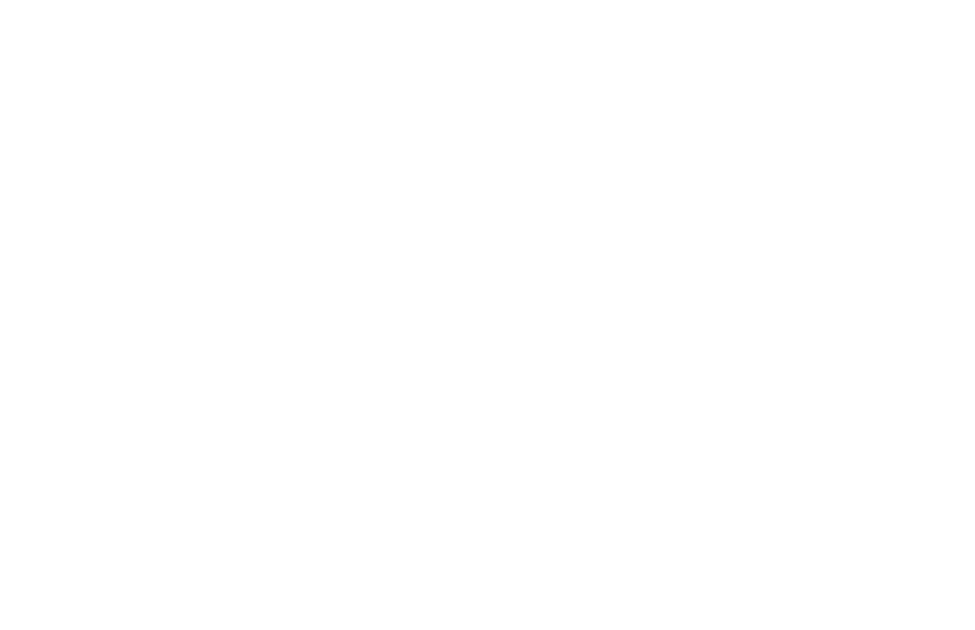
Доклад ставит вопрос о распределении ответственности между теми, кто обеспечивает решения разведданными, и теми, кто принимает решения на их основе, отмечая, что вопрос по сути требует рассмотрения каждого случая отдельно. Ключевой итог формулируется так: обладание подлинными и достоверными документами противника и даже близкая к реальности реконструкция его планов не гарантируют адекватных военно-политических решений и успеха; в ряде случаев такое знание способно приводить к противоположным результатам.
Максим Кокорев, аспирант исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Тема: Война в Афганистане (1979−1989 гг.): исторические уроки и современность
После Апрельской революции 1978 года руководство СССР стремилось удержать и расширить советскую сферу влияния в Афганистане, опираясь прежде всего на экономические, дипломатические и военно-технические инструменты поддержки власти НДПА. Формат и пределы этой поддержки определялись в Политбюро Ц К КПСС; ключевые узлы принятия решений зафиксированы в протоколах заседаний Политбюро («сов. секретно», рабочие записи). Уже на раннем этапе в Кремле осознавали необходимость решительных действий у южных границ СССР, однако на протяжении 1979 года шёл внутренний выбор формы реагирования — от политических решений и расширения помощи до обсуждения прямого военного участия.
Первое предметное обсуждение возможности ввода советских войск состоялось в марте-апреле 1979 года и было вызвано настойчивыми просьбами афганского революционного руководства на фоне резкого обострения обстановки, включая антиправительственные выступления в Герате 15−20 марта 1979 года и сведения о заговоре в Джелалабадском гарнизоне 21 марта. 16 марта прошли телефонные переговоры председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина с Н. М. Тараки, в ходе которых советская сторона убеждала афганского лидера в нецелесообразности ввода войск, тогда как Тараки, напротив, настаивал на военной поддержке, вплоть до скрытой отправки военных специалистов и техники.
Тема: Война в Афганистане (1979−1989 гг.): исторические уроки и современность
После Апрельской революции 1978 года руководство СССР стремилось удержать и расширить советскую сферу влияния в Афганистане, опираясь прежде всего на экономические, дипломатические и военно-технические инструменты поддержки власти НДПА. Формат и пределы этой поддержки определялись в Политбюро Ц К КПСС; ключевые узлы принятия решений зафиксированы в протоколах заседаний Политбюро («сов. секретно», рабочие записи). Уже на раннем этапе в Кремле осознавали необходимость решительных действий у южных границ СССР, однако на протяжении 1979 года шёл внутренний выбор формы реагирования — от политических решений и расширения помощи до обсуждения прямого военного участия.
Первое предметное обсуждение возможности ввода советских войск состоялось в марте-апреле 1979 года и было вызвано настойчивыми просьбами афганского революционного руководства на фоне резкого обострения обстановки, включая антиправительственные выступления в Герате 15−20 марта 1979 года и сведения о заговоре в Джелалабадском гарнизоне 21 марта. 16 марта прошли телефонные переговоры председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина с Н. М. Тараки, в ходе которых советская сторона убеждала афганского лидера в нецелесообразности ввода войск, тогда как Тараки, напротив, настаивал на военной поддержке, вплоть до скрытой отправки военных специалистов и техники.
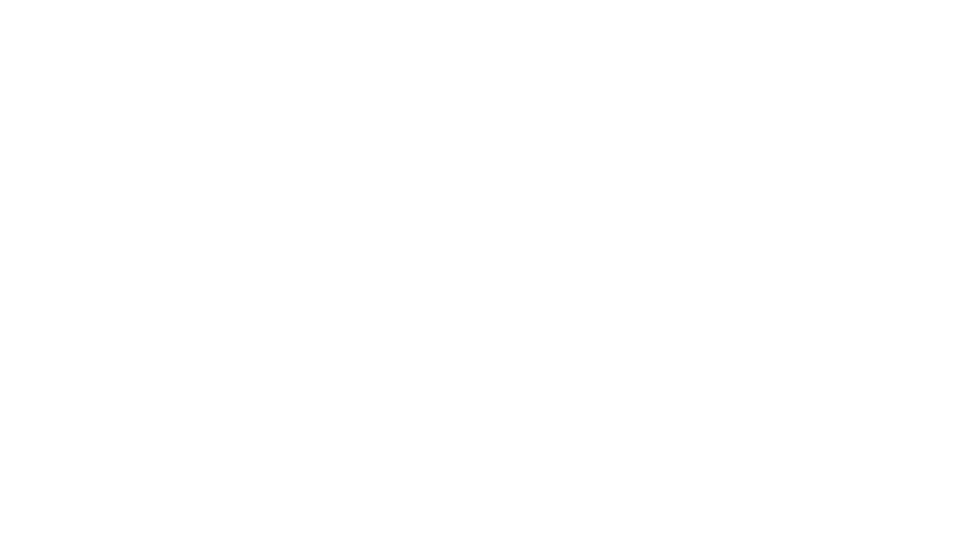
17 марта 1979 года Политбюро Ц К КПСС обсудило ситуацию в Афганистане и единогласно отклонило предложение о вводе войск. В обсуждении участвовали А. А. Громыко, А. П. Кириленко, Д. Ф. Устинов, Ю. В. Андропов, А. Н. Косыгин. При этом общий политический посыл формулировался жёстко: Афганистан «отдавать нельзя», но удерживать его следует прежде всего политическими средствами и расширением помощи, оставляя военную акцию как крайнюю меру. Решение об отказе от ввода войск сопровождалось расширением экономической поддержки (включая меры по кредитам, поставкам и цене на газ), усилением военно-технической помощи и увеличением штата военных советников; параллельно принимались меры военной готовности у границы (развёртывание подразделений и переброска соединений к пограничным районам).
18 марта Политбюро в том же составе повторно подтвердило отказ от ввода войск. Важной частью дискуссии стали аргументы руководителей ключевых ведомств. Ю. В. Андропов подчёркивал, что Афганистан не подготовлен к «решению вопроса по-социалистически», а удержание революции возможно лишь «штыками», что он оценивал как недопустимый риск; А. А. Громыко настаивал, что ввод сделает советскую армию «агрессором», повлечёт серьёзные международные последствия, юридически окажется не оправдан и фактически будет означать войну против афганского населения; 19 марта Л. И. Брежнев подтвердил линию помощи без ввода войск, отмечая, что прямое втягивание в войну нанесёт вред и СССР, и самому Афганистану, тем более в условиях распада афганской армии.
18 марта Политбюро в том же составе повторно подтвердило отказ от ввода войск. Важной частью дискуссии стали аргументы руководителей ключевых ведомств. Ю. В. Андропов подчёркивал, что Афганистан не подготовлен к «решению вопроса по-социалистически», а удержание революции возможно лишь «штыками», что он оценивал как недопустимый риск; А. А. Громыко настаивал, что ввод сделает советскую армию «агрессором», повлечёт серьёзные международные последствия, юридически окажется не оправдан и фактически будет означать войну против афганского населения; 19 марта Л. И. Брежнев подтвердил линию помощи без ввода войск, отмечая, что прямое втягивание в войну нанесёт вред и СССР, и самому Афганистану, тем более в условиях распада афганской армии.
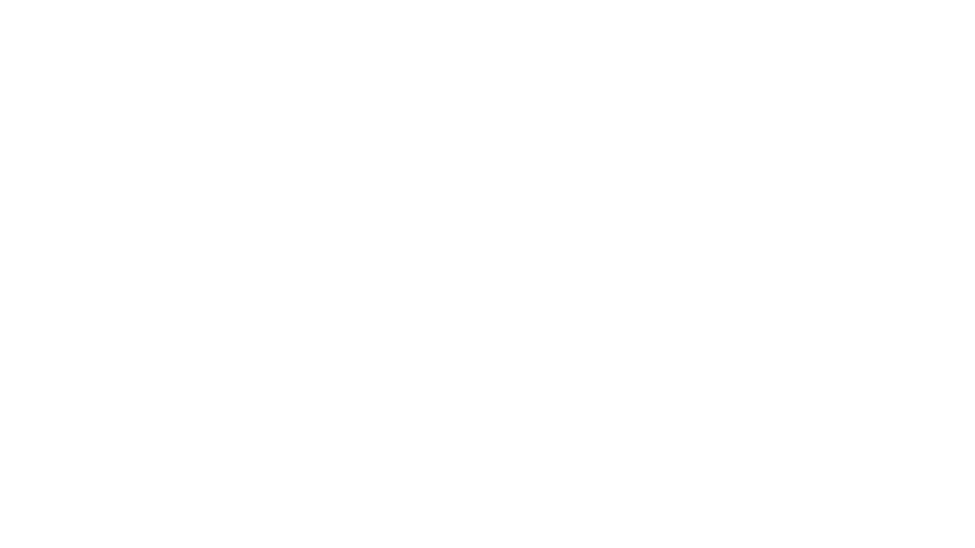
Одновременно внутри советского руководства фиксировалась существенная проблема качества и достоверности информации, поступавшей из Кабула. Подчёркивалось, что Тараки и Амин скрывают реальное положение дел и дают противоречивые оценки, из-за чего Москва не имеет целостного представления о ситуации. Показательным становился разнобой сигналов по одному и тому же эпизоду: в один день афганская сторона могла давать успокоительные сообщения одному советскому адресату и требовать ввода войск — другому; оценки перспектив в Герате колебались от «падёт завтра» до «положение не так уж плохое». Эта противоречивость не снималась даже после подавления мятежа в Герате: 20 марта 1979 года на переговорах в Москве было подтверждено общее решение Политбюро — поддерживать НДПА, но войска не вводить, при этом делая ставку на политические меры по консолидации власти, включая идею формирования единого национального фронта под руководством НДПА. В конце марта — начале апреля 1979 года генеральная линия была вновь подтверждена; в записке «О нашей дальнейшей линии…» подчёркивалась правильность отказа от переброски советских частей и необходимость придерживаться этой линии и впредь, продолжая всестороннюю поддержку правительства ДРА.
Несмотря на зафиксированное единодушие Политбюро против ввода войск, просьбы афганских руководителей о прямом военном участии СССР продолжались и множились (в тексте отмечается более 20 обращений, включая неоднократные просьбы Х. Амина). Советское руководство, реагируя на ухудшение обстановки, наращивало объём помощи, но стремилось не переходить грань прямого участия. Так, в апреле 1979 года вновь было подтверждено решение о нецелесообразности участия советских экипажей боевых вертолётов в подавлении выступлений. Вместе с тем к весне 1979 года, по оценке, становилось очевидно, что в Афганистане разворачивается гражданская война: столкновения с отрядами оппозиции перерастают в постоянные ожесточённые бои, правительственные войска проводят крупномасштабные операции по подавлению очагов сопротивления. На этом фоне Политбюро 24 мая 1979 года приняло решение об оказании дополнительной военной помощи ДРА, включая безвозмездные поставки вооружений и имущества в 1979—1981 годах, но и тогда просьбы о направлении советских экипажей и десанта были оставлены без удовлетворения как сопряжённые с крупными внутриполитическими и международными осложнениями.
Параллельно усиливались внешние факторы: фиксировались признаки политического вмешательства иностранных держав и поддержки моджахедов. Внутри советской системы нарастало и институциональное присутствие по линии безопасности: с 1978 года направлялись сотрудники КГБ для содействия афганским органам, формировалось Представительство КГБ СССР, численность которого к концу 1979 года значительно возросла; оказывалась помощь в становлении и развитии афганских органов госбезопасности.
Несмотря на зафиксированное единодушие Политбюро против ввода войск, просьбы афганских руководителей о прямом военном участии СССР продолжались и множились (в тексте отмечается более 20 обращений, включая неоднократные просьбы Х. Амина). Советское руководство, реагируя на ухудшение обстановки, наращивало объём помощи, но стремилось не переходить грань прямого участия. Так, в апреле 1979 года вновь было подтверждено решение о нецелесообразности участия советских экипажей боевых вертолётов в подавлении выступлений. Вместе с тем к весне 1979 года, по оценке, становилось очевидно, что в Афганистане разворачивается гражданская война: столкновения с отрядами оппозиции перерастают в постоянные ожесточённые бои, правительственные войска проводят крупномасштабные операции по подавлению очагов сопротивления. На этом фоне Политбюро 24 мая 1979 года приняло решение об оказании дополнительной военной помощи ДРА, включая безвозмездные поставки вооружений и имущества в 1979—1981 годах, но и тогда просьбы о направлении советских экипажей и десанта были оставлены без удовлетворения как сопряжённые с крупными внутриполитическими и международными осложнениями.
Параллельно усиливались внешние факторы: фиксировались признаки политического вмешательства иностранных держав и поддержки моджахедов. Внутри советской системы нарастало и институциональное присутствие по линии безопасности: с 1978 года направлялись сотрудники КГБ для содействия афганским органам, формировалось Представительство КГБ СССР, численность которого к концу 1979 года значительно возросла; оказывалась помощь в становлении и развитии афганских органов госбезопасности.
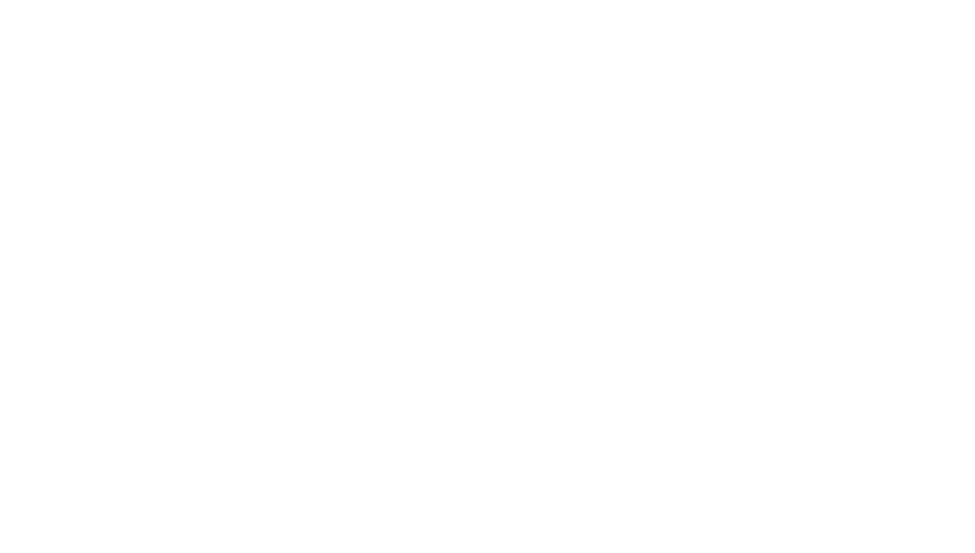
29 июня 1979 года Политбюро приняло первые решения, которые обозначили переход к непосредственному, но скрытому советскому военному присутствию в Афганистане. В постановлении об обстановке в ДРА фиксировалось дальнейшее осложнение, рост организованности действий мятежных племён, усиление антиправительственной и антисоветской агитации, включая пропаганду идеи «свободной исламской республики». Были утверждены меры по увеличению числа советников, а также по скрытному размещению подразделений для охраны аэродрома Баграм, особо важных объектов и посольства СССР — под видом технического и обслуживающего персонала. В начале июля в Кабул прибыл спецотряд «Зенит», а в июле на Баграм под видом специалистов прибыло подразделение ВДВ для охраны ключевого аэродрома. Дальнейшая дестабилизация проявлялась, среди прочего, в восстании в Бала-Хиссаре 5 августа 1979 года, подавленном афганскими силами.
В августе 1979 года в распоряжении США появился аналитический доклад Д. Дж. Макичина о «советских возможностях в Афганистане», где выделялись три возможные траектории действий СССР — от поддержки без прямого участия до крупного ввода войск; отдельно фиксировалась логика, согласно которой наращивание советского присутствия повышает риск втягивания в крупную операцию, несмотря на желание избежать прямого вмешательства. В дальнейшем эта логика была обобщена в докладной руководства ЦРУ, где прогноз действий СССР строился на стратегических интересах и соображениях национальной безопасности, а не на идеологической мотивации. В самом советском руководстве одновременно нарастал фактор тревожности и недоверия к Х. Амину: отмечались его контакты с внешними игроками и стремление к более «сбалансированному» курсу, что, по оценке советской стороны, создавало риск политического разворота Афганистана. В результате сложилось представление об Амине как о национал-оппортунисте, способном изменить ориентацию ради удержания власти, и возникла установка на замену его более надёжной фигурой — Б. Кармалем.
К декабрю 1979 года, на фоне продолжающегося обострения у южных границ СССР, советское руководство пришло к выводу, что конфликт в Афганистане принял необратимый характер, вышел за рамки внутреннего кризиса и не может быть остановлен одними политическими и экономическими мерами. В условиях холодной войны и интернационализации противостояния меры военной поддержки возобладали над иными решениями. 8 декабря 1979 года узким составом было принято предварительное, а 12 декабря — окончательное решение о вводе Ограниченного контингента советских войск. Решение принималось в условиях строгой секретности; вопрос о применении вооружённых сил за пределами страны, как подчёркивается, не рассматривался в высших государственных органах, а отдельные участники партийного руководства узнали о вводе войск постфактум. Одновременно в мемуарных свидетельствах и дневниках отражены разные версии о роли и мотивах отдельных руководителей, прежде всего А. А. Громыко, Д. Ф. Устинова и Ю. В. Андропова, а также различия между позицией Генерального штаба и политическим решением.
В августе 1979 года в распоряжении США появился аналитический доклад Д. Дж. Макичина о «советских возможностях в Афганистане», где выделялись три возможные траектории действий СССР — от поддержки без прямого участия до крупного ввода войск; отдельно фиксировалась логика, согласно которой наращивание советского присутствия повышает риск втягивания в крупную операцию, несмотря на желание избежать прямого вмешательства. В дальнейшем эта логика была обобщена в докладной руководства ЦРУ, где прогноз действий СССР строился на стратегических интересах и соображениях национальной безопасности, а не на идеологической мотивации. В самом советском руководстве одновременно нарастал фактор тревожности и недоверия к Х. Амину: отмечались его контакты с внешними игроками и стремление к более «сбалансированному» курсу, что, по оценке советской стороны, создавало риск политического разворота Афганистана. В результате сложилось представление об Амине как о национал-оппортунисте, способном изменить ориентацию ради удержания власти, и возникла установка на замену его более надёжной фигурой — Б. Кармалем.
К декабрю 1979 года, на фоне продолжающегося обострения у южных границ СССР, советское руководство пришло к выводу, что конфликт в Афганистане принял необратимый характер, вышел за рамки внутреннего кризиса и не может быть остановлен одними политическими и экономическими мерами. В условиях холодной войны и интернационализации противостояния меры военной поддержки возобладали над иными решениями. 8 декабря 1979 года узким составом было принято предварительное, а 12 декабря — окончательное решение о вводе Ограниченного контингента советских войск. Решение принималось в условиях строгой секретности; вопрос о применении вооружённых сил за пределами страны, как подчёркивается, не рассматривался в высших государственных органах, а отдельные участники партийного руководства узнали о вводе войск постфактум. Одновременно в мемуарных свидетельствах и дневниках отражены разные версии о роли и мотивах отдельных руководителей, прежде всего А. А. Громыко, Д. Ф. Устинова и Ю. В. Андропова, а также различия между позицией Генерального штаба и политическим решением.
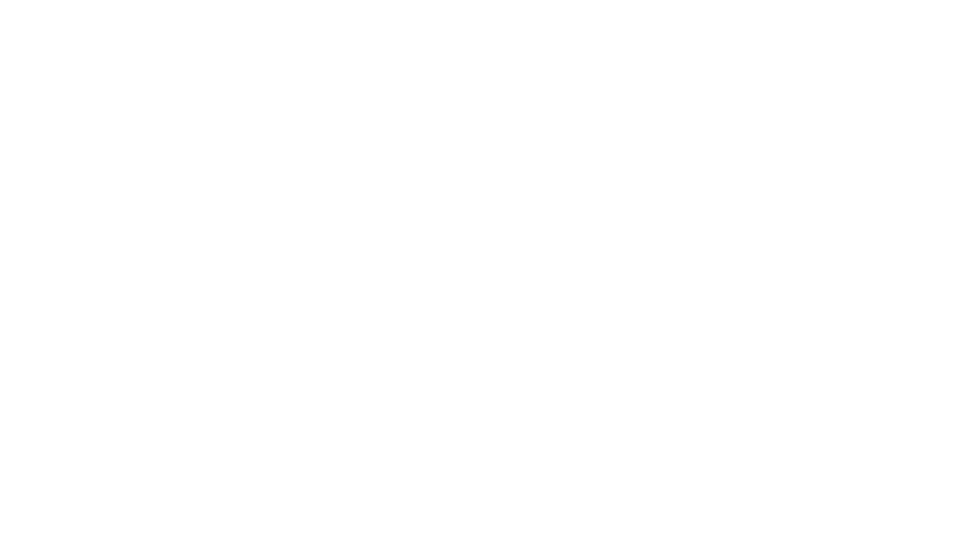
25 декабря 1979 года ввод войск был начат на основании секретной директивы министра обороны. Замысел операции строился на стремительном занятии стратегических объектов и административных центров, с опорой на фактор неожиданности и на многократные обращения афганского руководства с просьбой о помощи. В короткие сроки были обеспечены марши и переброска соединений к Кабулу и Баграму, затем введены дополнительные силы по другим направлениям. 26 декабря на совещании у Л. И. Брежнева была одобрена секретная часть плана по силовой смене власти, а 27 декабря 1979 года спецподразделениями при поддержке соединений ОКСВ был осуществлён государственный переворот: режим Х. Амина был свергнут, к власти приведён Б. Кармаль. Ввод основных сил 40-й армии в целом завершался к середине января 1980 года.
Дальнейшая политическая интерпретация событий в СССР закреплялась в официальных выступлениях и партийных решениях: ввод войск представлялся как вынужденная мера помощи дружественному государству для отражения вмешательства извне и защиты завоеваний Апрельской революции; принятые меры были одобрены на пленуме ЦК КПСС в июне 1980 года и затем подтверждены в материалах XXVI съезда КПСС 1981 года.
Рассмотренный афганский кейс наглядно показывает, что качество аналитической поддержки определяется не только полнотой и точностью исходных данных, но и тем, как эти данные циркулируют внутри системы принятия решений, проходят через политические и ведомственные фильтры и интерпретируются в условиях нарастающей нестабильности. Даже при наличии развернутой информационной картины противоречивость сигналов, ограниченное доверие к источникам, инерция ранее принятых установок и ощущение стратегической безальтернативности способны последовательно сужать пространство выбора и подталкивать руководство к радикальным решениям.
В этом смысле афганский опыт подчеркивает, что повышение качества аналитической поддержки требует не только совершенствования методов сбора и анализа информации, но и выстраивания прозрачных механизмов коммуникации между аналитиками и политическим руководством, институциональной фиксации альтернативных сценариев и системной работы с неопределенностью. Именно такое практическое понимание роли анализа — как инструмента расширения поля решений, а не их последующего оправдания — и составляет ключевой результат дискуссии в условиях глобальной нестабильности.
Дальнейшая политическая интерпретация событий в СССР закреплялась в официальных выступлениях и партийных решениях: ввод войск представлялся как вынужденная мера помощи дружественному государству для отражения вмешательства извне и защиты завоеваний Апрельской революции; принятые меры были одобрены на пленуме ЦК КПСС в июне 1980 года и затем подтверждены в материалах XXVI съезда КПСС 1981 года.
Рассмотренный афганский кейс наглядно показывает, что качество аналитической поддержки определяется не только полнотой и точностью исходных данных, но и тем, как эти данные циркулируют внутри системы принятия решений, проходят через политические и ведомственные фильтры и интерпретируются в условиях нарастающей нестабильности. Даже при наличии развернутой информационной картины противоречивость сигналов, ограниченное доверие к источникам, инерция ранее принятых установок и ощущение стратегической безальтернативности способны последовательно сужать пространство выбора и подталкивать руководство к радикальным решениям.
В этом смысле афганский опыт подчеркивает, что повышение качества аналитической поддержки требует не только совершенствования методов сбора и анализа информации, но и выстраивания прозрачных механизмов коммуникации между аналитиками и политическим руководством, институциональной фиксации альтернативных сценариев и системной работы с неопределенностью. Именно такое практическое понимание роли анализа — как инструмента расширения поля решений, а не их последующего оправдания — и составляет ключевой результат дискуссии в условиях глобальной нестабильности.
Денис Букин, психолог
Тема: Психологические механизмы шпиономании
Доклад открыл дискуссию о психологических механизмах шпиономании — феномене, который, несмотря на его прямое отношение к вопросам безопасности и управления, остаётся недостаточно осмысленным в аналитической и управленческой практике. В центре внимания находится не сам факт разведывательной активности, а то, каким образом представления о ней формируются, искажаются и трансформируются в коллективном и элитном сознании, влияя на принятие решений.
Тема: Психологические механизмы шпиономании
Доклад открыл дискуссию о психологических механизмах шпиономании — феномене, который, несмотря на его прямое отношение к вопросам безопасности и управления, остаётся недостаточно осмысленным в аналитической и управленческой практике. В центре внимания находится не сам факт разведывательной активности, а то, каким образом представления о ней формируются, искажаются и трансформируются в коллективном и элитном сознании, влияя на принятие решений.
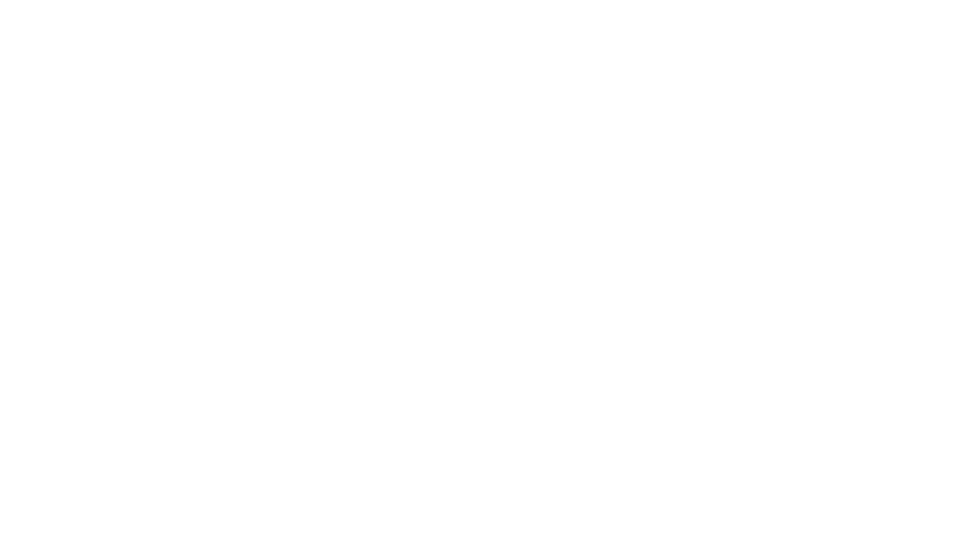
Шпиономания рассматривается как устойчивая когнитивно-эмоциональная конфигурация, возникающая в условиях неопределённости, повышенной тревожности и институционального давления. Она проявляется как на уровне массового сознания, так и внутри управленческих и экспертных сообществ, включая тех, кто профессионально отвечает за анализ угроз. В этих условиях разведывательная опасность перестаёт быть предметом взвешенной оценки и начинает восприниматься как повсеместная и самоочевидная, что принципиально меняет логику анализа.
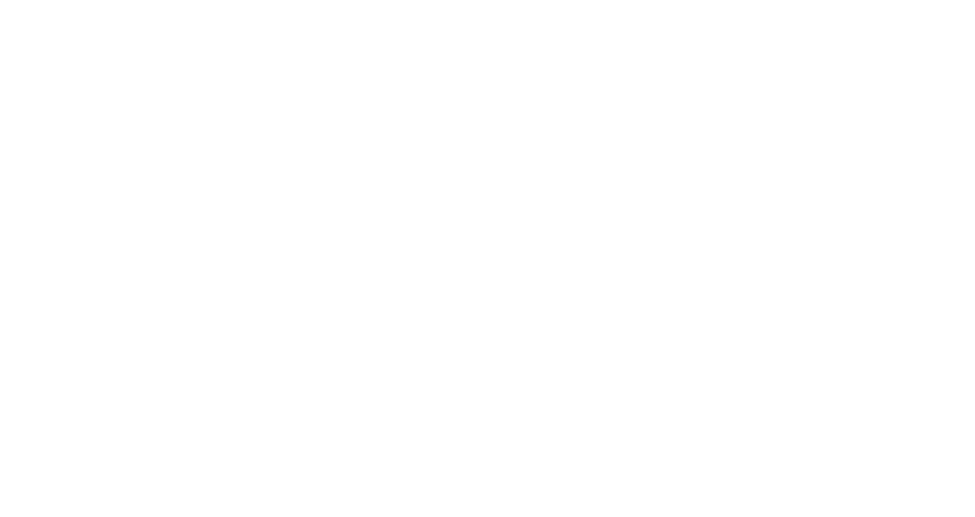
Историческим примером для анализа служит опыт периода Первой мировой войны, когда представления о «вездесущем шпионаже» стали частью повседневной реальности и государственной политики. Массовые подозрения в адрес «внутреннего врага», резкий рост доносов, репрессивных мер и ошибочных обвинений сопровождались институциональными перегибами, подрывавшими эффективность самой системы безопасности. Исторический материал показывает, что в условиях мобилизации и кризиса наличие разведывательной угрозы перестаёт проверяться и обсуждаться, а принимается как аксиома, после чего любые неоднозначные сигналы автоматически интерпретируются в пользу худшего сценария.
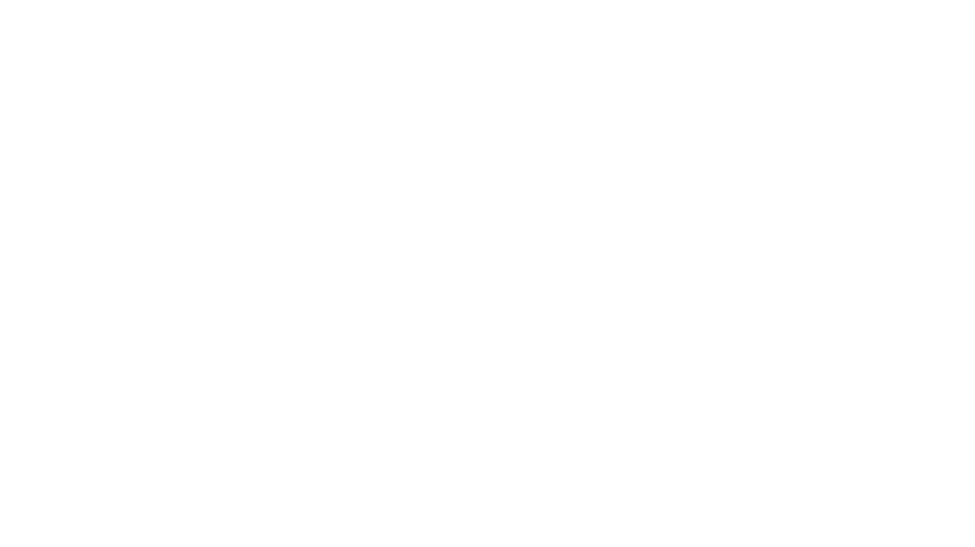
Современные исследования эмоций и принятия решений позволяют точнее описать эти процессы. Ключевую роль в формировании шпиономании играет массовая тревожность, которая одновременно мобилизует и разрушает аналитическую способность. Под её воздействием усиливаются когнитивные искажения: склонность к подтверждению ожиданий, атрибутивные ошибки, переоценка редких, но эмоционально насыщенных инцидентов. Неопределённость начинает трактоваться как доказательство враждебного умысла, а отсутствие прямых доказательств — как результат успешной конспирации противника.
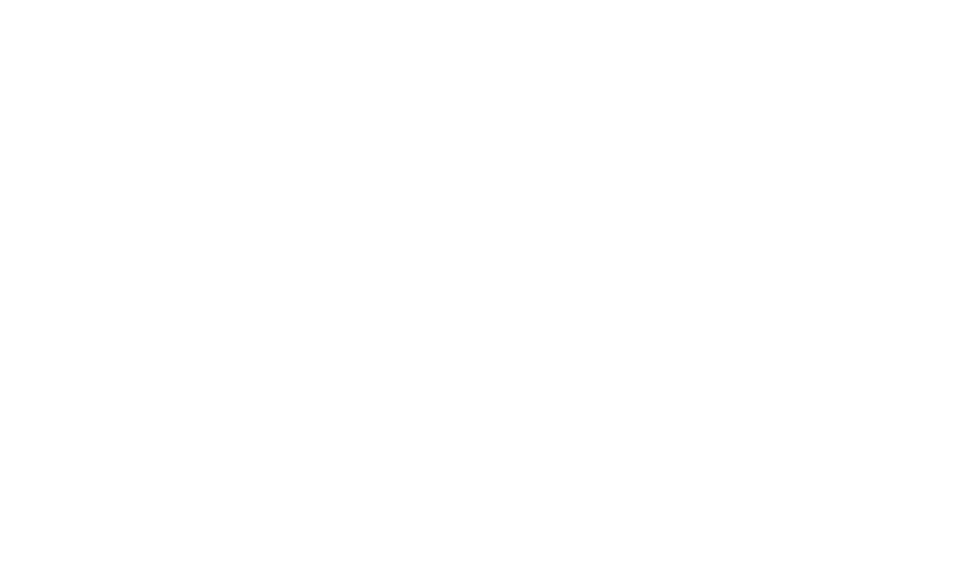
В управленческом контуре это приводит к тому, что аналитика постепенно утрачивает объяснительную функцию и начинает выполнять оправдательную роль, обслуживая уже сложившуюся эмоциональную рамку. Массовая тревожность трансформируется в ошибочные управленческие решения, усиливает межгрупповые подозрения, подрывает доверие внутри институтов и стимулирует межведомственную конкуренцию. В таких условиях страх становится удобным инструментом политических или корпоративных манипуляций, позволяющим перераспределять ресурсы, полномочия и ответственность под лозунгом борьбы с угрозой.
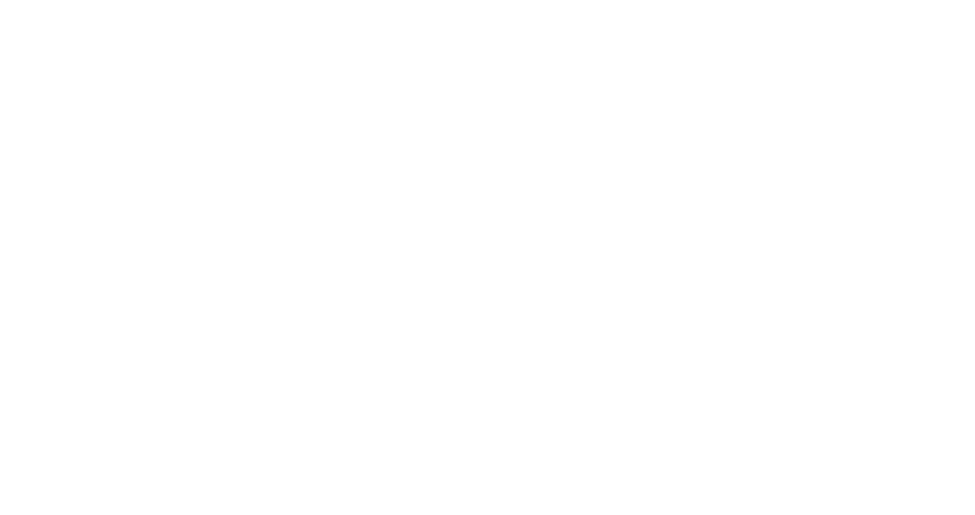
Особое внимание в докладе уделено тому, что шпиономания порождает ошибки обоих типов: как принятие ложных угроз за реальные, так и игнорирование действительно значимых рисков на фоне шума подозрений. Парадоксальным образом чрезмерная настороженность может снижать устойчивость системы безопасности, даже если формально контроль и репрессивные меры усиливаются. В этой связи в докладе подчёркивается, что ключевым механизмом, позволяющим избежать подобного искажения, является осознанный контроль над собственным эмоциональным состоянием — как на уровне руководителя, так и на уровне каждого участника аналитического и управленческого контура, — с тем, чтобы предотвратить блокировку рассудительного, холодного принятия решений под воздействием тревожности и страха.
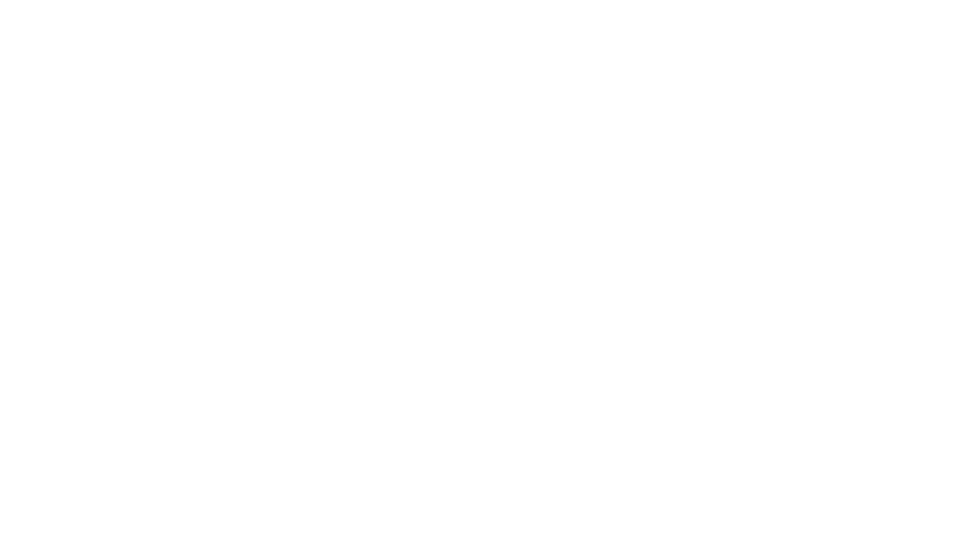
В качестве практического вывода к дискуссии автор предложил к рассмотрению модель оценки оптимального уровня настороженности при противодействии разведывательной активности. Её исходная установка заключается в том, что настороженность не является бинарной категорией, а представляет собой динамический параметр, зависящий от контекста, качества информации, институциональной среды и эмоционального фона. Задача аналитической поддержки состоит не в максимизации подозрительности, а в управлении её уровнем таким образом, чтобы минимизировать совокупные издержки ошибок первого и второго рода.
Предлагаемая рамка не претендует на универсальное решение, но задаёт направление для профессиональной дискуссии о том, как сохранить чувствительность к реальным угрозам, не скатываясь в шпиономанию. В условиях глобальной нестабильности именно способность отделять анализ от эмоционального давления и институциональных ожиданий, а также поддерживать дисциплину эмоциональной саморегуляции как инструмент управленческой рациональности, становится ключевым условием повышения качества аналитической поддержки и принятия обоснованных управленческих решений. становится ключевым условием повышения качества аналитической поддержки и принятия обоснованных управленческих решений.
Предлагаемая рамка не претендует на универсальное решение, но задаёт направление для профессиональной дискуссии о том, как сохранить чувствительность к реальным угрозам, не скатываясь в шпиономанию. В условиях глобальной нестабильности именно способность отделять анализ от эмоционального давления и институциональных ожиданий, а также поддерживать дисциплину эмоциональной саморегуляции как инструмент управленческой рациональности, становится ключевым условием повышения качества аналитической поддержки и принятия обоснованных управленческих решений. становится ключевым условием повышения качества аналитической поддержки и принятия обоснованных управленческих решений.
